Новостная лента
- Инициатива | 30.06 03:21 (0)
- ФФ-сюр | 23.05 05:36 (0)
- Манифест-кубослон | 27.04 12:32 (0)
- Конференция и презентация | 09.04 01:13 (0)
- Открывая «Кулибинарию» | 13.03 05:05 (0)
- Загребай! | 20.02 11:39 (0)
- Трёх лимериков манифест | 01.01 22:55 (0)
- Про пищи вулкан | 01.01 15:38 (0)
- Гравировка с разбегу | 10.11 21:52 (0)
- В небе шаровые краны! | 28.10 03:07 (0)
Золото Квикнема, часть 3 | 14.10.2016 г. в 05:03
Из рассказа Пьера Мак-Орлана «Ночная Маргарита» (перевод с французского А. Вейнрауб)
|
ГЛАВА ПЕРВАЯ Старик Фауст с суровым видом посмотрел на своё механическое перо. Затем он написал: «Абсолютное, обоснованное, упроченное и упорное презрение к человеческому роду придаёт тому, кто им обладает, естественную, приятную учтивость. Великие человеконенавистники обычно очень приятны в обхождении. В этом отношении они похожи на людей, изображающих презрение к детям ради литературной позы. Дети избирают их преимущественно перед другими мишенью для всяческих оскорблений. Ибо эти простодушные младенцы отлично знают, что пощёчины даются лишь любящей рукой».Быстро написав эти несколько строк, старик положил стило и посмотрел на свою кошку, Мурку [французскую кошку Мюрк (chat Murke) лучше бы так и называть, но переводчики 20-х поступали по-своему. — К.], игравшую с черепахой, проявлявшей неиссякаемое терпение. Старый Фауст вздохнул и пересчитал белые листы, которые он должен был заполнить своим быстрым, сжатым почерком. Он встал и направился к закрытому окну, преграждавшему всякое вторжение в эту комнату каких бы то ни было провокаций со стороны внешних предметов. Стоя во весь рост и семеня ногами, старик не отличался слишком импозантным видом. На его сморщившемся теле был бесформенный сюртук, нарочитая живописность которого была слишком очевидна. Его лицо походило на маленький, серый резиновый мяч, нижнюю часть которого украшало несколько щетинистых, как у белого слона, волос. Огромные очки в роговой оправе сидели верхом на маленьком, нежном дедовском носу, вылепленном из вещества, подобного розоватым лепесткам мака, преждевременно вышедшего из своих зелёных ножон. Нежность этого органа составляла единственную оригинальную черту в лице старика — одинокого, умного и неряшливого. Он господствовал над своим рабочим столом, и двумя стульями, стоящими рядом, — грязнейшими стульями, — и множеством замусоленных, пропитанных никотином, отвратительных окурков, разбросанных повсюду, словно мёртвые тела на поле битвы. «Дядя Фауст» — как называла его привратница — открыл окно настежь. Высунул голову, и всё лицо его обдал запах сирени, блистательно радующейся месяцу маю, живому, лёгкому, хвастливому, упавшему с солнца, как весёлая поэма света в тридцать одну страницу. Перед окнами старика расстилался скудный монмартрский сад: конфузливая группа из нескольких деревцов бузины, совершенно истощённой от стекавшей на неё с развешанного белья воды, утрамбованная площадка, на которой сейчас стояла Люсьенна, дочь привратницы, десятилетняя девочка с блуждающими глазами, со вздёрнутым задумчивым носиком, — она стояла и машинально почёсывала через плотное бумажное платье свой маленький зад. У садовой калитки, выходившей на Place de Tertre, старый фокс, весь пожелтевший, как зуб старого курильщика, пыхтел изо всех сил, всунув нос в крысиную нору. В нижнем этаже дома семейство портного-еврея с восторгом слушало игру молодого скрипача, тоже еврея, игравшего галицийскую песенку, звуки которой вихрились в воздухе, как папильотки, поднятые ветром, дующим из гетто. Дрозд, взобравшись на самую верхнюю перекладину криво подвешенной клетки и раскрыв до самого сердца свой жёлтый клюв, насвистывал первые такты Lison-Lisette. Он насвистывал эту песенку и заканчивал её меланхоличным, как подпись внизу письма, завитком, вместо росчерка. Старый Фауст поглядел на птицу. Он хотел было посвистеть, но губы его не издали никакого звука. Тогда он закрыл окно, уселся в своё единственное кресло и начал кашлять. Только это и умел он делать. Он кашлял короткими, жалобными приступами, пользовался всяческими приёмами, клал руку на сердце и заканчивал шумным сморканием. Хотя окно и было закрыто, в комнате всё-таки слышен был дрозд, насвистывавший, как мальчишка в мясной лавке. «Он молод», — вздохнул Фауст, свёртывая папироску, причём бумага разорвалась, едва он поднёс её к губам, чтобы смочить. Кое-как он поправил эту беду кончиком своего дрожащего старческого языка. Затем он взял с полки, — на которой были книги, заплесневшие башмаки, коробки от сардин, бутылки, — огромный сборник формул, говорящих об относительности времени согласно вычислениям профессора Эйнштейна. Постучали в дверь. Старик встал, кряхтя и волоча туфли пошёл открывать. Это Люсьенна принесла почту: контрамарку в Елисейский театр, пригласительный билет на вернисаж выставки картин одного польского художника и два каталога букинистов. — Это всё? — спросил он. — Всё! — ответила Люсьенна. Он закрыл дверь и, приложив ухо к замочной скважине, жадно прислушивался к шуршанью юбчонок Люсьенны, собиравшейся спуститься к себе верхом на перилах лестницы. Старик бросил почту на стол, затем снова принялся жалобно кашлять, всячески варьируя приёмы, с истой виртуозностью астматика. Вечерние сумерки украсили маленькие, тихие улички гирляндой слов, привешенной от одной двери к другой, до самого спуска к улице Saules. Фауст знал, что в это время все местные привратницы гарцуют на своих стульях, выдвинутых на тротуар. Ему не хотелось дефилировать перед этой кавалерией зубоскалок. И старик рано улёгся, в безнадёжном свете ещё не закончившегося дня. Иными словами, он укутал тело своё, похожее на ствол виноградной лозы, в старое, разодранное одеяло, которое он собирал в комок на своей тщедушной груди. «Мне, — подумал он почти вслух, — восемьдесят два года и тридцать семь дней. Я коллекционирую дни, как некогда коллекционировал слова. В моей голове — целая коллекция слов на всех языках всех стран, и они сейчас мелькают перед моими глазами, словно альбом с почтовыми марками. Мои годы походят на коллекцию открыток, из которых каждая отмечена погашенной маркой. У меня есть годы, украшенные пальмами, другие — походят на молоденькую прачку, поднимающуюся по улице Lepic, иные — просто в красках, иные меня волнуют вследствие некоторых предрассудков. Ещё в теле моём — восемьдесят два альманаха. Я — хранитель этой библиотеки и музея и в то же время их единственный посетитель. Первый цветок, который я неловко держал между указательным и большим пальцами, была роза; роза и её лепестки грустно увядали по мере того, как я склонял это благоуханное слово. Когда же я приобрёл на всю жизнь уверенность, что творительным падежом во множественном числе заканчивается этот опыт, у меня в руке оставался один лишь стебель — с маленьким высохшим сердечком, горьким на вкус». |
Квик
Если вы обнаружили ошибку в тексте, то выделите часть текста и нажмите Ctrl+Enter
Последнее из рубрики Город, который в Net
- Золото Квикнема, часть 10 | 21.03 16:21
- Золото Квикнема, часть 9 | 20.03 22:01
- Золото Квикнема, часть 8 | 15.03 18:57
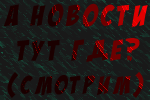

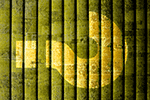
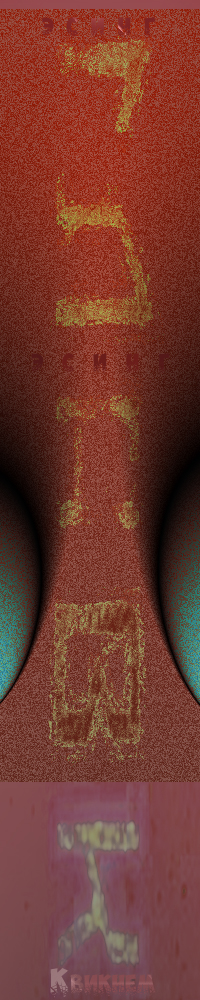
Комментарии читателей
Добавить комментарий