Новостная лента
- Инициатива | 30.06 03:21 (0)
- ФФ-сюр | 23.05 05:36 (0)
- Манифест-кубослон | 27.04 12:32 (0)
- Конференция и презентация | 09.04 01:13 (0)
- Открывая «Кулибинарию» | 13.03 05:05 (0)
- Загребай! | 20.02 11:39 (0)
- Трёх лимериков манифест | 01.01 22:55 (0)
- Про пищи вулкан | 01.01 15:38 (0)
- Гравировка с разбегу | 10.11 21:52 (0)
- В небе шаровые краны! | 28.10 03:07 (0)
Золото Квикнема, часть 5 | 04.01.2018 г. в 02:07
Из рассказа Пьера Мак-Орлана «Ночная Маргарита» (перевод с французского А. Вейнрауб)
|
ГЛАВА ВТОРАЯ Жорж Фауст проснулся внезапно — ему помешал солнечный луч, танцевавший на его лице, как зайчик, отражённый зеркалом в руке какого-нибудь шалуна. Он чихнул так, что едва не надорвался — и минуту или две лежал неподвижно, совершенно уничтоженный.Ему предлагал себя длинный, полный, розовый, как женщина, день. Фауст вскочил с постели и оделся, теряя все свои тряпки, в состоянии, близком к весёлости. Он подошёл к газовой горелке и приготовил себе завтрак, как всегда, каждое утро. Рассеянно поедая хлеб, смоченный в молоке, он увидал вдруг своё лицо, выпеченное и перепечённое за восемьдесят лет солнечным и искусственным светом. Он посмотрел на свою лёгкую, мшистую белую бороду, расстилавшуюся на полураскрытой рубашке. Он отвернул бороду ладонью, стараясь обнаружить очертанья подбородка, дабы увидеть подлинную форму своего лица. И вдруг он решил сбрить бороду и усы. Эта мысль привела его в бешеную радость. Взяв ножницы для разрезывания бумаги, он приступил к операции. Вскоре на его щеках, губах и подбородке осталось только что-то вроде короткой шерсти, напоминавшей шерсть фокстерьера и серебрившей ему кожу. Не задерживаясь на созерцании этой временной трансформации, он намылился и тщательно побрился. Закончив процедуру, он убедился, что лицо его обтаяло. Ему показалось, что оно величиной не больше ореха. Он тупо рассматривал себя, совершенно не узнавая. И в новом лице, только что им созданном, он не находил своих старых привычек. В таком виде он походил на старую черепаху, целиком лишённую верхнего щита. Бесспорно было одно: эта операция молодила его — вернее, заставляла его на несколько дней, хоть на несколько дней, пока он не привыкнет к своей новой маске, позабыть о своих годах. «Это — лицо бессмертия», — подумал Фауст. Он с восторгом созерцал священный характер своего безволосого лица, затем попробовал посвистать, ибо в него проникала радость до сих пор ему самому неведомым путём. — Хорошо, если бы можно было отрезать бороду всему, что окружает меня в этой комнате, начиная с этих четырёх стен, кончая журналами, накопившимися за дверью в уборную, — Фауст произнёс эти слова новым, незнакомым ему голосом. Он попробовал уловить новые интонации в своём голосе и повторил несколько раз, смеясь, как ребёнок: — уборная... уборная... дверь... борода... — Это восхитительно, — произнёс он, машинально пытаясь потянуть бороду. Рука его встретила пустоту, но с беспокойством пощупала мягкую, в складках, кожу щёк и шеи, свисавшую как у индюка. Тогда он подумал, что никакое человеческое вмешательство не сможет омолодить его сюртука, распластанного на спинке стула. Перспектива заключить своё тело в это омерзительное одеяние обескуражила старика, ещё не совсем привыкшего держать руки в контакте с этой столь неожиданно обнаружившейся кожей, принявшей такой вид, о котором он и не подозревал. Двести-триста книг загромождали полки, занимавшие одну из сторон комнаты. Там были устарелые научные труды, книги стихов, поднесённые товарищами по пивной, следы которых он давно потерял, латинские грамматики, латинские классики, переплетённые в зелёный холст. «Фауст» Марлоу, в издании Мишель-Леви, стоял рядом с «Фаустом» Вольфганга Гёте, в романтическом издании, довольно хорошей сохранности. Несколько сочинений на немецком языке о возникновении легенды о Фаусте занимали полку рядом с запылённым графином, который преподнёс ему когда-то фабрикант вермута. Нижние полки заполняли словари: словарь Треву в семи томах, Дармштетер, Ля Кюрье де Сент-Палей, Кишра и один том Александра в его обычном сером полотняном футляре. Фауст долго рассматривал свою библиотеку. Он брал каждый том, хлопал по нему руками, чтобы выколотить пыль, соскабливал перочинным ножом стеариновые пятна, запачкавшие переплёты. Приведя в порядок свои полки, он поспешно надел сюртук и взял шляпу. Тщательно заперев за собой дверь, он начал спускаться по лестнице, ступенька за ступенькой, охая и кряхтя. Сзади, нагнав его, скакала на одной ноге Люсьенна, сразу через три ступеньки. Фауст посторонился, чтобы пропустить её. Девчонка проскользнула перед ним, как ящерица, даже не взглянув на него. Старик, ворча себе под нос, наконец выбрался на двор. Он долго дышал, чтобы перевести дух, и посмотрел на голубое небо, обнажив малиновые дёсны. В нескольких шагах от дома Жорж Фауст зашёл в лавочку букиниста, которого знал уже несколько лет. — Не можете ли вы зайти ко мне, я хочу продать кое-какие книги. В тот же вечер, на деньги, вырученные от продажи, Фауст купил себе готовый костюм из серого шевиота, фетровую шляпу, бельё и жёлтые ботинки. Вокруг стоячего прямого воротничка с загнутыми углами он повязал синий, в белую горошинку, галстук. Прежде чем выйти из дома, он ещё раз посмотрелся в зеркало — и отправился обедать на терраску маленького ресторанчика на площади Constantin-Pecqueur. На пустынном пути запущенного воображения Жоржа Фауста внезапно вспыхнул свет, как от огонька папиросы. Парижский вечер, вместо того чтобы спуститься с неба, выходил из асфальта и деревянных мостовых, с тысячами огней, рассеянных словно цветы на лугу, купающемся в коварном и мягком, как эманация медиума, тумане. Необычайные сооружения для починки путей ставили на шоссе цветочные горшки, в которых распускался, в форме пятиконечной звезды, электрический цветок. Фауст впервые воспринимал социальную фантастику своего времени. Его ослабевшие глаза следили за трамвайным проводом и маленьким голубым электрическим пламенем, убегавшим в даль. Глубокая тишина отделяла дневной шум от будущих радостных криков ночи, едва приоткрывшейся. Сидя на скамейке бульвара Rochechouart между какой-то женщиной неопределённого возраста и полицейским агентом задумчивого вида, старый профессор вдыхал парижскую ночь, погружённый в какое-то сладостное оцепенение, оценить которое он не мог за неимением данных для сравнения. Между тем ночь представала перед ним, словно зрелище, до тех пор запрещённое. В тени опустевших на несколько часов улиц он смутно ощущал какое-то романтическое беспокойство. Присутствие женщин волновало его, как трудноразрешимая метафизическая гипотеза. Он решительно ничего не знал о женщинах улицы: он знал их только подурневшими в плачевном неглиже раннего утра. Они производили на него впечатление солецизма или варваризма в любовной идиллии Феокрита. Он знал женскую наготу только по аллегорическим рисункам, изображающим Судьбу, Славу, Науку, Земледелие и Промышленность. Их суровые лица и гладкие животы не вызывали в нём никакого волнения. Он заметил также, что нищета, как хорошая краска, «брала» лучше старых женщин, нежели стариков. Пожилая женщина, неподвижно сидевшая рядом с ним на скамейке, вдруг напомнила ему его отрезанную белую бороду. Суждения профессора Фауста никогда не следовали ассоциациям «по нелепости». Он был крайне поражён и почти сконфужен этим необъяснимым сопоставлением. Он пересел на другую скамейку и сел рядом с девицей лёгкого поведения, на вид лет двадцати; она с беспокойной наглостью смотрела на деревья бульвара, на огни тротуаров. Она была некрасива, в забавной шляпке. Девушка немного посторонилась, чтобы дать место этому старику, такому слабому, что, казалось, достаточно сказать ему что-нибудь на ухо — и он треснет. — Прекрасный вечер сегодня, — сказал Фауст, обращаясь к соседке. — Да, если не польёт к полуночи. Фауст спрятал голову в воротник. Он подумал о знаменитом профессоре, своём предке, о той Маргарите, которую он встретил на улице. Эта мысль пробудила в нём сознание возможности тайны и чуда. Доктор Фаустус встретил Маргариту на улице, при искусственном освещеньи, изобретённом людьми его времени. Это было после продажи души, он мог ходить по улицам, слегка покачиваясь, как истый соблазнитель девиц. Он знал также места, предназначенные для соблазна девиц. В те времена этому служили тоже улица и мосты, как Pont du Nord, где Адель [из народной песенки «Sur l'pont du Nord». — К.] щеголяла в своём золотом поясе, да ещё лужайки в городских предместьях — лужайки, написанные с тысячью подробностей Дюрером во славу девушек, жаловавших всех этих ландскнехтов, клерков, горожан и профессоров, посещавших полнолицых подружек белобородых блюстителей порядка. Но теперь, в 1924-м, где могли соединиться статисты чувственных развлечений и среди какого пейзажа? Какой клиент проституции или тайной фантазии женщин мог бы указать пустынное поле шабаша или красный свет бань, набухших песнями? «Эта молодая девушка, — решил Фауст про себя и не без вежливости, — эта молодая девушка, быть может, могла бы дать мне указания». Он кашлянул, дабы укрепить голос, и, растянув рот в отвратительную улыбку, спросил: — Мадемуазель!.. Не знаете ли, где здесь можно повеселиться? Женщина повернулась к старику и, тоже раскрыв рот, посмотрела в упор на своего собеседника. Она сказала: — Меня зовут Анжеллой, Анжеллой-нормандкой. Если хочешь, я буду доброй, но только поведи меня куда-нибудь выпить стаканчик, — куда хочешь, хоть в пивную — вон туда, если хочешь... Она поднялась, Фауст последовал за ней. Когда гарсон подал напитки, профессор сказал Анжелле: — Я уж не очень молод... Мне шестьдесят семь лет... Он назвал эту цифру, которая, как ему казалось, была пределом значительного омоложения. — Ты выглядишь моложе, — сказала девушка, делая вид, что смотрит на него серьёзно. — Тебе можно дать лет сорок пять... Ты очень хорошо одет... Где ты работаешь? В кинематографе? — Я человек бесполезный, — ответил он. — Ты позволишь? — сказала Анжелла. И, не успел ещё Фауст согласиться кивком головы, как она вскочила одним прыжком и побежала навстречу молодому человеку, довольно элегантно одетому, типа спортсмена-буржуа. Он слегка прихрамывал, и, несмотря на все ухищрения, его левый ботинок деформировался, сжимаясь в какой-то своеобразный рисунок. |
Квик
Если вы обнаружили ошибку в тексте, то выделите часть текста и нажмите Ctrl+Enter
Последнее из рубрики Город, который в Net
- Золото Квикнема, часть 10 | 21.03 16:21
- Золото Квикнема, часть 9 | 20.03 22:01
- Золото Квикнема, часть 8 | 15.03 18:57
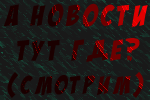

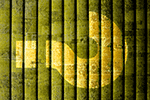
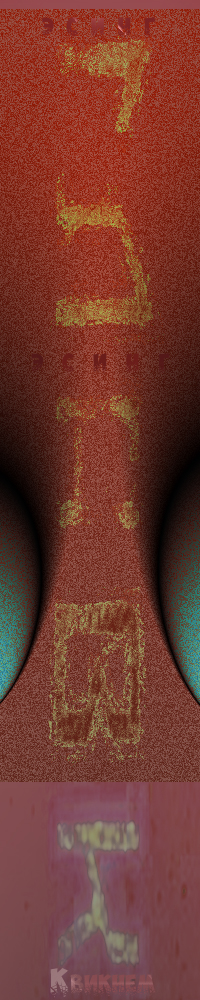
Комментарии читателей
Добавить комментарий