Новостная лента
- Инициатива | 30.06 03:21 (0)
- ФФ-сюр | 23.05 05:36 (0)
- Манифест-кубослон | 27.04 12:32 (0)
- Конференция и презентация | 09.04 01:13 (0)
- Открывая «Кулибинарию» | 13.03 05:05 (0)
- Загребай! | 20.02 11:39 (0)
- Трёх лимериков манифест | 01.01 22:55 (0)
- Про пищи вулкан | 01.01 15:38 (0)
- Гравировка с разбегу | 10.11 21:52 (0)
- В небе шаровые краны! | 28.10 03:07 (0)
Золото Квикнема, часть 6 | 09.01.2018 г. в 05:11
Из рассказа Пьера Мак-Орлана «Ночная Маргарита» (перевод с французского А. Вейнрауб)
Анжелла говорила с молодым человеком, лица которого Фауст не мог увидеть, с живостью фамильярной и вызывающей. Под конец молодой человек вынул из кармана стило, написал несколько слов в очень маленькой записной книжке и естественным движением протянул перо Анжелле, откровенно положившей его в свою сумочку. Она вернулась к Фаусту, который терпеливо её ждал. — Это Леон, — сказала она без дальнейших объяснений. Затем она взяла стило, отвинтила его и внимательно посмотрела внутрь трубочки. Фауст успел заметить, что трубочка наполнена белым порошком. Анжелла снова положила вещь в сумку. — Итак, — сказала она, — ты хочешь веселиться? — То есть... — пробормотал старик. — Идём сегодня ночью в Saharet. Ты увидишь там всяких танцующих женщин и мужчин вроде тебя, пьющих шампанское. Я тебя познакомлю с девчонками, если хочешь «сделать партию». — Оно далеко, это учреждение? — спросил Фауст. — Нет... на углу, около площади Pigalle... — Мадемуазель, вы очень милы, но я думаю, что не смогу вас сопровождать сегодня. — А! — сказала Анжелла... — Ну тогда, мой дорогой, до следующего раза... Она встала, пожала его руку, которую тот протянул, и пошла по дороге между деревьями. Оставшись один на террасе пивной, Фауст всё время нащупывал пустое место, где была борода. Потом он долго обшаривал все карманы своего нового костюма — холодные, чистые карманы, к которым он ещё не привык. Наконец он нашёл свои банковые билеты. У него оставалось двести пятьдесят франков. Заплатив гарсону, он пошёл продолжать прогулку. Вдали лиловый свет дуговых фонарей, красные и жёлтые огни увеселительных мест привлекали к себе мужчин и женщин не меньше, чем какая-нибудь уличная драка. Фауст медленными шагами направился к тому месту, которое — он это предчувствовал — должно было явиться конечной целью его путешествия. Он снова всплывал наверх, как лёгкий пузырь, из глубины тысячелетий, чтобы бросить свои последние силы в абсолютный философский расцвет. Он готов был на все литературные жертвы, чтобы войти в смерть, как входят в Monico или Mitchell. Он хотел познать бога посредством джаз-банда и проникнуть в вечность с этикеткой на спине сюртука: 1924. ГЛАВА ТРЕТЬЯ Saharet... Saharet... Красные буквы сверкали, прикреплённые в ночи, так близко, что их, казалось, можно было достать рукой; затем, потускнев, исчезали, чтобы возродиться вновь, одна за другой, на секунду задержавшись, как взгляд девушки, увлекающий клиента. Они исчезали автоматически. По многочисленным туннелям быстро пробегала огненная зелёная змея в погоне за рассветом. Через окна и запертые двери протекала в ночную бездну, как божественный ручей, мелодия джаз-банда между каждым сверкающим появлением слова: Saharet.Подняв голову к размалёванному небу улицы, Фауст осторожно проскользнул между роскошными экипажами и отдыхающими такси в тёмном центре площади Pigalle. Мужчины, мобилизуемые каждый вечер для праздничных нужд, выжидательно подпирали косяки дверей ночных заведений, у которых бесшумно останавливались по свистку тощего лакея или исполинского швейцара большие закрытые экипажи. Фауст, сам того не желая, очутился перед дверью в Saharet — красной, горячей дверью, как слюдяная дверца затопленной печки. Перед ним какой-то великан, весь в галунах, с поклоном пропускал рыжую женщину со стриженными волосами, с фиолетовыми глазами, зелёное платье которой казалось свежим как салат. Фауст посмотрел на это серафическое существо, оно произвело на него глубокое, немного тревожное впечатление некоего лабораторного созданья. Он почувствовал, что судьба толкает его в неведомый мир и что он не в силах произвольно выбрать дорогу. Старик прошёл мимо швейцара и стал медленно подниматься по лестнице, упиравшейся в две-три голых женских спины у входа в раздевальню. Музыкальное прыганье, смущаемое мелкой грозой четырёх совокуплённых барабанов, разделывало английский романс, ставший трогательным до слёз от участия аккордеона, глухой трубы и саксофона с голосом сирены. Фауст, растопырив перед грудью руки, как два погашенных автомобильных фонаря, и семеня ножками, проник в залу, красную с белым, посредине которой на вылощенном, отражавшем её паркете плясала испанская танцовщица, отбивая какой-то народный мотив каблуками и энергичными кастаньетами. Гарсон указал на ослепительный стол и приоткрыл красную бархатную банкетку, на которой Фауст тотчас, совершенно машинально, принял позу, вполне согласованную в этом пока ещё бесформенном лиризме с точной суммой его ресурсов. Он ещё твёрдо чувствовал почву под ногами, благодаря присутствию двухсот пятидесяти франков. Он заказал бутылку шампанского за семьдесят пять франков и в ожидании посасывал сухое печенье в форме трубочки. Всё смешалось у него перед глазами. Он приобщался с почти комичной поспешностью к рождению, заблуждениям и расцвету полночной цивилизации. Он замечал туманности танцовщиц, лёгкий пар джаз-банда, финансистов и мадрепоров [«коралловых полипов» на финансистах? — К.], которые могли показаться вполне культурными. Всё это как будто дисциплинировалось в смешении неистовых ног, не согласовавшихся с благопристойностью бюстов, раскачиваемых, как шхуны при лёгком бризе, в серьёзном танце. Фауст закрыл глаза, выпил глоток шампанского, и в голове его зажглись четыре лампы: четыре лампы возле громкоговорителя. И никогда впоследствии не мог он постичь, почему услышал он вдруг громкий, нечеловеческий голос, прогремевший в его бледные уши необъяснимые слова: «Второй ра-унд». Две девочки, розовые и малиновые, сплетались неким комментарием к половому инстинкту. Хорошенькая негритянка пропела по-английски о ребячествах Норы. В этом салоне, красном с золотом, Фауст обрёл вновь предательское спокойствие детских книг Bibliothèque rose; он невольно склонился на плечо своей соседки — рыжей женщины в зелёном платье, — которая тихонько без малейших колебаний посадила его на своё место. Он поклонился, желая извиниться, указал на бутылку шампанского, и женщина придвинулась к нему. — Пригласите этого молодого человека — он здесь вместе со мной. Это вас не стеснит? Фауст согласился, и какой-то молодой человек, которого он сначала не заметил — он был заслонён своей соседкой, — взяв стул, подсел к парочке. — Это Леон, — сказала женщина. Голос у неё был не грубый. Фауст заказал вторую бутылку шампанского — она должна была истощить его ресурсы, но это ничуть его не смущало: он чувствовал, что это его ночь, традиционная ночь его рода, — ночь, осенённая образом, легендой, гением двух писателей. Девушка тихонько напевала: We have no bananas today. Леон постукивал по столу, аккомпанируя джаз-банду. Это был хорошенький молодой человек с матовым, нежным лицом, обыкновенным, с маленькими усиками.— Вы живёте не в Париже? — спросил он. — Нет, я живу в Париже, — ответил старик, — и меня — не знаю, почему я даю вам эту справку, — зовут Фаустом. — Случайно? — спросил молодой человек, всё более и более ласковый. — Ах, боже мой, нет. Меня зовут Фаустом. Это имя должно быть вам известно, если вы сколько-нибудь знакомы с литературой. — Но, сударь, — сказал молодой человек, — я, быть может, вас удивлю, но я знавал давненько некоего Фауста, который, как говорят, изобрёл книгопечатание, ухаживал за крестьянами во время чумы и закончил свою филантропическую карьеру в достаточной мере скандально для тогдашнего времени. — О! Скандально... — запротестовал Фауст с некоторой меланхолией. — Разрешите, я укажу вам на один факт, не комментируя его лично. Он посмотрел вокруг себя быстрым, слишком ловким взглядом. Рыжая женщина танцевала с слегка подкрашенным американцем. Тогда молодой человек нагнулся к Фаусту. — Вот сейчас, когда эта женщина уйдёт, я кое-что сообщу вам, и вы должны сохранить это про себя. Подождите, вот этот тип уведёт её, и я предложу вам... — Что? — спросил Фауст. — Одно дельце. Одно маленькое дельце... — Но... — сказал профессор, — я вовсе не хочу, чтобы эта женщина исчезала. Я знаю (он выпил ещё бокал шампанского), что начинаю сегодня мою ночь на Блокберге. Ещё вчера я еле влачил свои тяжёлые черепашьи лапы по бесплодным скалам горных уступов. В эту ночь, в мою ночь, mein Herr, праздник всех пяти чувств начинается в мою честь; мой нос вдыхает сатанинскую музыку этих молодых негров, мои глаза видят целые семьи звуков у крышки рояля, мои пальцы касаются жирной и чувственной тайны, уши мои слышат ропот желаний, взбунтовавшихся за стеной своей тюрьмы, и глаза, мои бедные старые глаза, ещё видят просвечивающие сквозь ткани тела. И поэтому, сударь, я различаю голое тело этой рыжей женщины сквозь её платье, такое зелёное и лёгкое. Я не хочу, mein Herr, чтобы эта женщина исчезла раньше, чем пропоёт первый петух. — Петух не запоёт, а мне нравится геральдика ваших пяти чувств. Разрешите мне предложить вам шампанского? |
Квик
Если вы обнаружили ошибку в тексте, то выделите часть текста и нажмите Ctrl+Enter
Последнее из рубрики Город, который в Net
- Золото Квикнема, часть 10 | 21.03 16:21
- Золото Квикнема, часть 9 | 20.03 22:01
- Золото Квикнема, часть 8 | 15.03 18:57
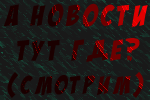

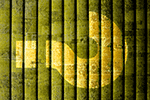
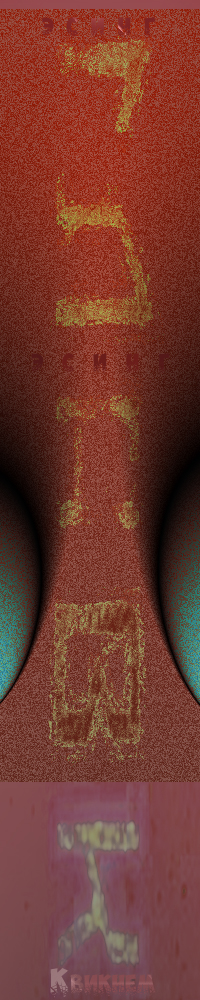
Комментарии читателей
Добавить комментарий